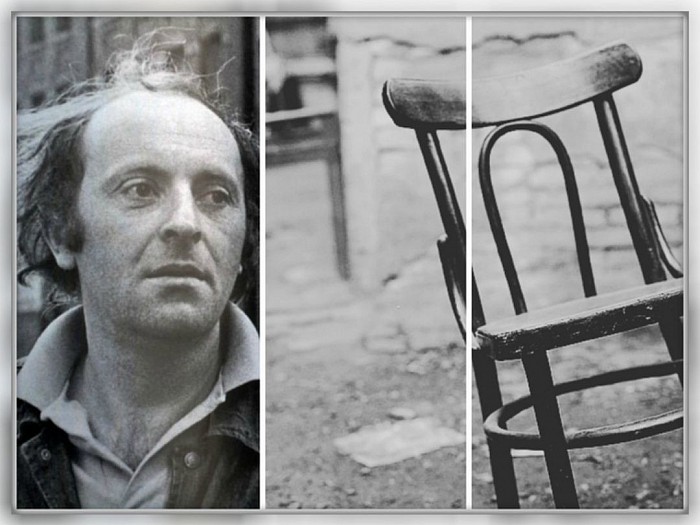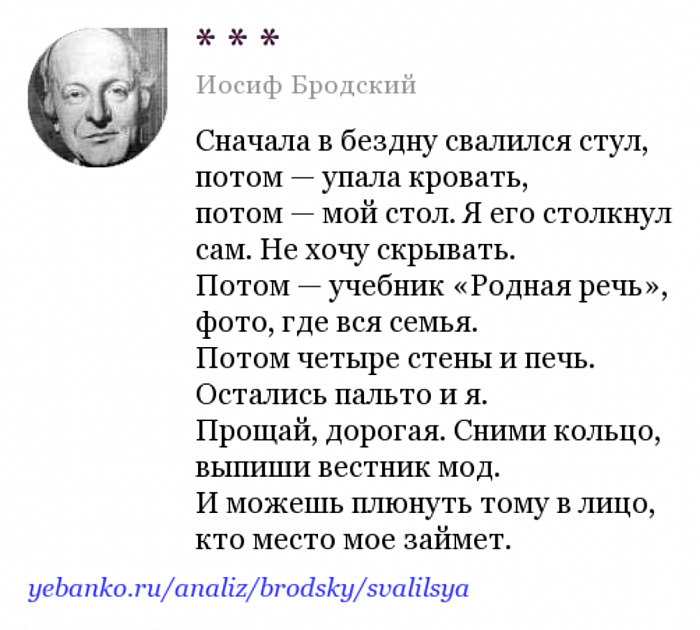СТИХИ... Мельников, Чичибабин, Вознесенский, Бродский.
НИКОЛАЙ МЕЛЬНИКОВ. Стихи...
РУССКИЙ КРЕСТ НИКОЛАЯ МЕЛЬНИКОВА (памяти поэта убитого в 2006 г.)
24 мая 2006 года Николай Мельников был найден мёртвым на автобусной остановке в Козельске. Официальная причина смерти - сердечная недостаточность. В это время Мельников участвовал в съёмках фильма о героических псковских десантниках "Русская жертва".
Согласно завещанию, похоронен на кладбище родного села Лысые.
ПОЛЕ КУЛИКОВО (песня)
Высока ковыль-трава поля Куликова –
Будто нам для вечных снов выстелен ковёр…
Покидая отчий дом, мы давали слово:
Лучше встретить смерть в бою, чем нести позор.
Скоро поле тишины станет полем брани,
Скоро ночь уйдёт домой, унося туман,
Скоро копья зазвенят в чужеземном стане,
И взовьётся в синеву знамя у славян!
Исчерпалось до конца русское терпенье!
Встанем, братья, в полный рост на земле родной!
Не впервой нам принимать ратное крещенье
И из пепла воскресать тоже не впервой!
Наша слабость, наша рознь в прошлом остаётся,
Путь раздоров и обид мы прошли сполна!..
Упаси нас впредь, Господь, меж собой бороться:
Коли Родина одна нам навек дана.
Пусть поможет острый меч да скакун крылатый,
Не скорбите ни о чём в этот светлый час:
С нами Бог, за нами Русь, наше дело свято!
Кто останется в живых, тот помянет нас!
ПРОСЬБА (песня)
Упаду и усну, и из далей далёких услышу
Плач друзей и родных и псалмы, что споют надо мной.
Возликует душа, поднимаясь всё выше и выше,
Как ликует невольник, бегущий из плена домой!
Возликует душа от надежды на свет и спасенье,
Только что её ждёт – в этой жизни узнать не дано.
Я немало грешил, и не там я искал утешенье,
Но прости меня, Боже: к Тебе я хотел всё равно!..
Будет путь у души, а чужое, холодное тело
Повезут из Москвы в те глухие, лесные края,
Где заросший погост утопает в черёмухе белой,
Где родные лежат, где с родными останусь и я…
Все друзья и враги, все, кого я обидел когда-то,
Вы простите меня, и просить об одном вас хочу:
Будет вам тяжела иль совсем безразлична утрата,
Всё равно вы хоть раз помяните, поставьте свечу!..
К МАМЕ
Мама! Родная! Если б ты знала
Там, на промокшем перроне вокзала,
Как тяжело моё сердце стучало,
Как мою душу тоска разрывала!
Я отмолчался, и ты – не сказала,
Только слеза по щеке пробежала.
Что меня в жизни моей ожидало –
Это одну лишь тебя волновало…
Что со мной было? Что со мной стало?
Ты не всегда и не всё понимала.
Только молилась, только прощала,
Только ждала – и опять провожала…
Время минуты свои отсчитало –
Господи, как же минут этих мало!
Поезд качнулся, и ты побежала,
Слёзы платком на ходу утирала…
А проводница мне чай предлагала,
А за окошком Россия мелькала,
Снова мой путь – без конца и начала…
Как я люблю тебя! Если б ты знала!
ОГОНЁК
Вдалеке от людей, вдалеке от дорог
Я в ночи заплутал, я в снегах затерялся,
Но в простуженной тьме вдруг мелькнул огонёк,
На мгновенье пропал и опять показался.
Я побрёл на него, я поверить не мог,
Что в российских полях, без конца и начала,
Для таких же, как я, здесь горит костерок,
Чтобы чья-то душа в темноте не пропала…
Как спасенье, горит в темноте огонёк,
Будто Бог его нам, заплутавшим, зажёг…
Всем, кто сбился с пути, кто устал и продрог,
Как спасенье, горит в темноте огонёк.
И сидит у костра всякий разный народ,
Молчаливо сидит в ожиданье рассвета,
И не хочется слов – пусть душа отдохнёт,
Только б было тепло и хватало бы света.
А закончится ночь, побредём не спеша
И направится каждый своею тропою.
Так гори, огонёк, как России душа,
Среди белого света, объятого тьмою!..
Как спасенье, горит в темноте огонёк,
Будто Бог его нам, заплутавшим, зажёг…
Всем, кто сбился с пути, кто устал и продрог,
Как спасенье, горит в темноте огонёк.
ТОСКА
Я в разлуке с Родиной бывал,
Уезжал в далёкие края,
Но нигде сильней не тосковал
Так, как здесь, где Родина моя!
Я немало видел стран чужих,
Но домой быстрей спешил опять,
Потому что здесь, среди своих,
Мне хотелось горе горевать!
Ничего я в жизни не имел,
От земли не прыгал в облака,
Я, как все, сквозь слёзы песни пел,
И была светла моя тоска…
Нет тоски по Родине, враньё!
То – печаль по прошлым временам.
Есть тоска по – Родине! Её
Бог зачем-то дал с рожденья нам…
ГРАЖДАНИНУ
Твоя Россия… Думая о ней,
Уберегись соблазнов и обманов:
Одна молитва может быть сильней,
Чем целый митинг с сотней горлопанов.
«За Русь, на бой!» – всё суета сует,
И суетою души захлебнулись.
Одна молитва! Но молитвы – нет!
«На бой, за Русь!» – и снова обманулись.
Твой враг не там – не на коне с копьём
И не с мечом в открытом чистом поле,
Он – невидим, его не взять живьём
Ни силою, ни криками «Доколе!»
Твой враг – раскол, далёкий, вековой,
И если в душах нету единенья –
Ликует он, и тщетен подвиг твой
На поприще «российского спасенья».
Есть Вера, Бог, Отечество и ты!
Лишь это русских делает народом!
Решись, уйди бесовской суеты,
Пусть даже «струсил» скажут мимоходом.
Уйди! И сам неистово молись,
Чтоб Бог вернул и Веру, и сплоченье,
Ни слёз, ни покаянья не стыдись
Во имя долгожданного спасенья.
Из всех краёв растерзанной земли,
Как нити золота, польются вверх молитвы,
Чтобы до Господа, до всех Святых дошли,
Прося благословенья правой битвы!
Тогда – сама собою встанет рать,
И будет вождь – один, одна – дорога,
Спасётся Русь… И пусть не будут знать,
Что ты всё это вымолил у Бога!
СИРЕНЬ (романс)
Если б были теперь – только холод и слякоть,
Но сияет весенний безоблачный день!
Почему же, скажи, мне так хочется плакать,
В эту пору, когда зацветает сирень?
Я когда-то ломал эти ветки сирени…
Что же сделать, чтоб всё повторилось опять?
Чтоб к тебе прибежать, и упасть на колени,
И обнять, и уже никому – не отдать!
Ты хранила меня, ты была мне спасеньем,
Может быть, для меня одного рождена!
Почему же, скажи, под цветущей сиренью,
Оказалась однажды не ты, а она?
Если б были теперь – лишь снега да морозы,
Но ликует весна, отогнав холода,
И в глазах всё стоят запоздалые слёзы,
Потому что не быть мне с тобой… никогда…
ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве!
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве,
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках!
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли!
И пусть поёт в тоске и боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной русской доле
Под тихий плач и ветра свист!
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут –
В наследство им на белом свете –
Всё тот же чёрный, рабский труд!
Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда:
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший в «никуда»!..
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час!
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы –
Одно лишь «Господи, помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве…
Там будут старые деревья
И будут яблоки в траве…
БОРИС ЧИЧИБАБИН. Стихи
Стихотворения «Письмо в Америку» и «Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали…» русского поэта Бориса Чичибабина.
ПИСЬМО В АМЕРИКУ
Ты мне призывных писем не пиши
в заморский рай земного изобилья:
с моей тоски там как бы не запил я,
там нет ни в чем ни духа, ни души.
Мне лучше жить в отеческой глуши,
где каждый день вдыхаю Божью пыль я,
где степь ковылья да рысца кобылья,
где ляг в траву и дальше не спеши.
Я не сужу, я знаю, почему ты
оставил землю бедности и смуты,
где небу внемлют Пушкин и Толстой,
и проку нет с предавшим пререкаться.
Стихи — не довод для американца.
Я обойдусь любовью и тоской.
* * *
Все деревья, все звезды мне с детства тебя
обещали.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это
про то.
Полуночница, умница, черная пчелка
печали,
не сердись на меня. Посмотри на меня
с добротой.
Как чудесно и жутко стать сразу такими
родными.
Если только захочешь, всю душу тебе
отворю.
Я твержу как пароль каждым звуком
хмелящее имя,
я тревожной порой опираюсь на нежность
твою.
Не цветными коврами твой путь устилала
усталость,
окаянную голову северный ветер сечет.
Я не встречусь с тобой. Я с тобой никогда
не расстанусь.
Отдохни в моем сердце, покуда стучится
еще.
Задержись хоть на миг — ты приходишь
с таким опозданьем.
Пусть до смертного часа осветит слова
и труды
каждый жест твоих рук, обожженных моим
обожаньем.
Чудо жизни моей, я в долгу у твоей
доброты.
ЕЩЁ СТИХИ
* * *
Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на моё тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало всё равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.
Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.
На лоб и грудь дыхни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беззаботно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.
Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал ― и видел ад воочью, ―
и рвётся тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.
Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал. Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Стихи
БЕЖЕНКА
Беги, беги, беженка,
на руках с грудным!
На снежной дорожке бежевой
не столкнись с крутым.
Греби, греби, беженка,
к поезду, бегом.
Беги, беги, белая
береза за окном!
Под крики: «Бей черножопых!
Бей русских! Бей христиан!»
Кружись, полосатым крыжовником,
зеленый Таджикистан.
Бедствие! Нет убежища.
Гоним к берегам другим,
ладошкой южнобережной,
махнув, убегает Крым.
Вьюгою центробежною
рвет нас до тошноты.
Ты – ближнее зарубежье,
и дальнее – тоже ты.
Беги, беги от группешника,
сердечка уставший ком,
несись, спотыкаясь бешено,
по снегу босиком!..
Ротвеллером из лендровера
Ирод рычит: «Атас...»
Беги, беги, родина,
в ужасе от нас!..
Беги, беги, беженка,
беги, беги, бе...
Беги, беги, чудо Божие,
беги, беги, Бо...
Над лугом погибшим Бежиным,
по небу, в облаках
бежит от нас Божья беженка
с ребеночком на руках.
ЧУВСТВО
Падали, хрипя до рвоты, ротные.
Чернозем остался на губе.
Эротическое чувство родины
прижимает, милая, к тебе.
И никелированная ересь,
месяцем пошедши на ущерб,
русский эрос – Эрэсэфэсэрос –
в небе молот скрещивал и серп.
Нержавейка озаряла серость
полосато вроде лунных зебр.
За границей шепчем, как молитву,
наш нецензурованный словарь.
Дворянин, судимый за Лолиту,
сквозь нее усадьбу целовал.
Что сегодня называем «пошлостью»,
это не свобода сатаны,
это вопли на соборной площади
потерявшей родину страны.
Холода черемух приворотные...
Из чужих, заморских пропастей
эротическое чувство родины
тянет всех в последнюю постель.
Поклонницы радостноглазо
дают на концерте цветы.
Ты – ваза,
чтоб эту охапку нести.
А дома я пью твою вазу,
задерживая глоток.
В тебе, запрокинувши разум,
ночной распустился цветок.
«ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ СЛОВ ХРИСТА». Глава 1.
Тусовок люблю разодетый вздор,
как полюбил христиан Диор.
Наш творческий поиск неутомим,
ибо не ведаем, что творим.
Медведь воспитывает Пустынника.
Клонируют дьяволят.
Пробирку медик нес на крестины.
Медведают, что творят.
А в сердце бои между Духом и био –
не сладишь с сердцем своим,
ибо ибоибоибоибоибоибо
не ведаем, что творим.
В нынешнем августе крестообразно
встанут планеты в ряд.
Простишь, когда сами рабы соблазна
Апокалипсис сотворят?
Идет простывшая Магдалина,
нимфетка, сквозь снегопад.
Нет окаянного кокаина!
Не ведают, что творят.
Постыдные толпы вопят до хрипа,
но снова не Тот распят.
Боже, прости им, ибо
не ведают, что творят.
«ЖУТКИЙ КРАЙЗИС СУПЕР СТАР». Глава 3.
Идет эмиссия мыслей. Поющая мисс Эмиссия
снимает комиссионные с эмиссии попсы.
Шуршит под ногой опущенная
эмиссия компромиссов.
В козлах, что хрустят капустой, –
эмиссия пустоты.
Свобода по фене ботает. Мы можем ей поделиться.
Эмиссионер свободы красиво шмальнет с винта.
Любая модель бездарна
без дали идеализма.
Мы – новые безработные.
Внутри у нас пустота.
Эмиссия демонстраций.
Филиппики горемычные.
Особняки кирпичные краснеют из-за оград.
Российская журналистика
сильней Настасьи Филипповны,
не пачки купюры липовой –
журналы ее горят!
Станки печатные заняты.
Им не до литературы:
пустые стихи и романы
абсорбируют пустоту.
Стоят золотые заморозки.
Слетают с осин алтушки.
Запойному графоману,
мне пишется в пору ту.
Мой край, где Нуреев лунный
метал перед нами бисер,
где пулю себе заказывал георгиевский соловей,
неужто ты не мессия,
как Андрей Белый мыслил,
неужто, Россия, стала
эмиссиею нулей!?
ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ
Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды — шаландышаландышаландыша
л а н д ы ш а хочется!
А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всею командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.
А море, вчерашнее рашен, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писуары Марселя Дюшана
белели талантливо. Но не точно.
И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающий до позвоночника,
и шепот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется…»
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Стихи
BURN
(ГОРЕНИЕ)
Зимний вечер. Дрова
охваченные огнем -
как женская голова
ветреным ясным днем.
Как золотится прядь,
слепотою грозя!
С лица ее не убрать.
И к лучшему, что нельзя.
Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.
Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается: "Не тронь"
и вспыхивает "меня!"
От этого - горячо.
я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся "еще!"
и бешеное "пусти!".
Пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной
зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов -
раскаленность щипцов!
Ты та же, какой была
прежде. Тебе не впрок
раздевшийся догола,
скинувший все швырок.
Только одной тебе
свойственно, вещь губя,
приравниванье к судьбе
сжигаемого - себя!
Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,
напряженное пестро,
мы снова наедине!
Это твой жар, твой пыл!
Не отпирайся! Я
твой почерк не позабыл,
обугленные края.
Как не скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,
выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назарею б та страсть,
воистину бы воскрес!
Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.
Как менада, пляши
с закушенною губой.
Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!
Так рвутся, треща, шелка,
обнажая места.
То промелькнет щека,
то полыхают уста.
Так рушатся корпуса,
так из развалин икр
прядают, небеса
вызвездив, сонмы искр.
Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя - зола,
тусклые уголья,
холод, рассвет, снежок,
пляска замерзшых розг.
И как сплошной ожог -
не удержавший мозг.
1981
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Стихи
ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ
Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речной пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.
Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.
Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.
В ярко-красном кашне
и в плаще в подворотнях, в парадных
ты стоишь на виду
на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.
Добрый день. Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна:
рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.
До чего ты бедна. Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна.
По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редколесья,
вылетают такси, и осины глядят в поднебесье.
Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:
это наша зима все не может обратно вернуться.
Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.
Как легко нам дышать,
оттого, что подобно растенью
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
оттого, что мы все потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.
Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.
Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героик,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.
Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.
Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всесильный,
над отчизной горит,
разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
шелестят фонари — по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.
Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять — только это возможно.
То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.
Это — вечная жизнь:
поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье былого,
пароходов огни
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
плеск холодной воды возле брюк твоих вечношироких.
Поздравляю себя
с этой ранней находкой, с тобою,
поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов.
Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один,
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.
Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
сколько дам на стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь —
но уже не вернусь — словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая.
1962
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Стихи
ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА
Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.
На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит,- гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся, точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки
Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры - словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан
он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
- когти в кулак, точно пальцы рук,-
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,
к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.
Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
небесную синеву, ее же
увеличивая за счет
еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.
Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из
труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на
крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть помесь гнева
с ужасом. Он опять
низвергается. Но как стенка - мяч,
как паденье грешника - снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт-те что. Всё выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса - крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.
И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не
предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы
задирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло
обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая "вон,
там!", видим вверху слезу
ястреба плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,
разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре,
опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видит в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,
чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски -
бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски: "Зима, зима!"
1975
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Стихи
М.Б.
То не Муза воды набирает в рот.
То, должно, крепкий сон молодца берет.
И махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.
И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам.
И глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.
Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где - Господь прости -
точно рыба - воздух, сырой губой
я хватал что было тогда тобой?
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
Наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог "Варяг".
Но, видать, не судьба, и года не те.
И уже седина стыдно молвить - где.
Больше длинных жил, чем для них кровей,
да и мысли мертвых кустов кривей.
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него - и потом сотри.
* * *
"Был черный небосвод
светлей тех ног
И слиться с темнотою он не мог."
В тот вечер возле нашего огня
Увидели мы черного коня.
Не помню я чернее ничего,
Как уголь были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота,
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
Спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось спит.
Пугала чернота его копыт.
Он черен был, не чувствовал теней,
Так черен, что не делался темней,
Так черен, как полуночная мгла,
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как яма под землею, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.
Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг:
В паху его царил бездонный мрак.
Cпина его была уж не видна,
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его блестели как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.
Как будто он был чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
Меж нами оставался до утра.
Зачем не отходил он от костра,
Зачем он черным воздухом дышал,
Раздавленными сучьями шуршал?
Зачем струил он черный свет из глаз?
Он всадника искал себе средь нас.
1962